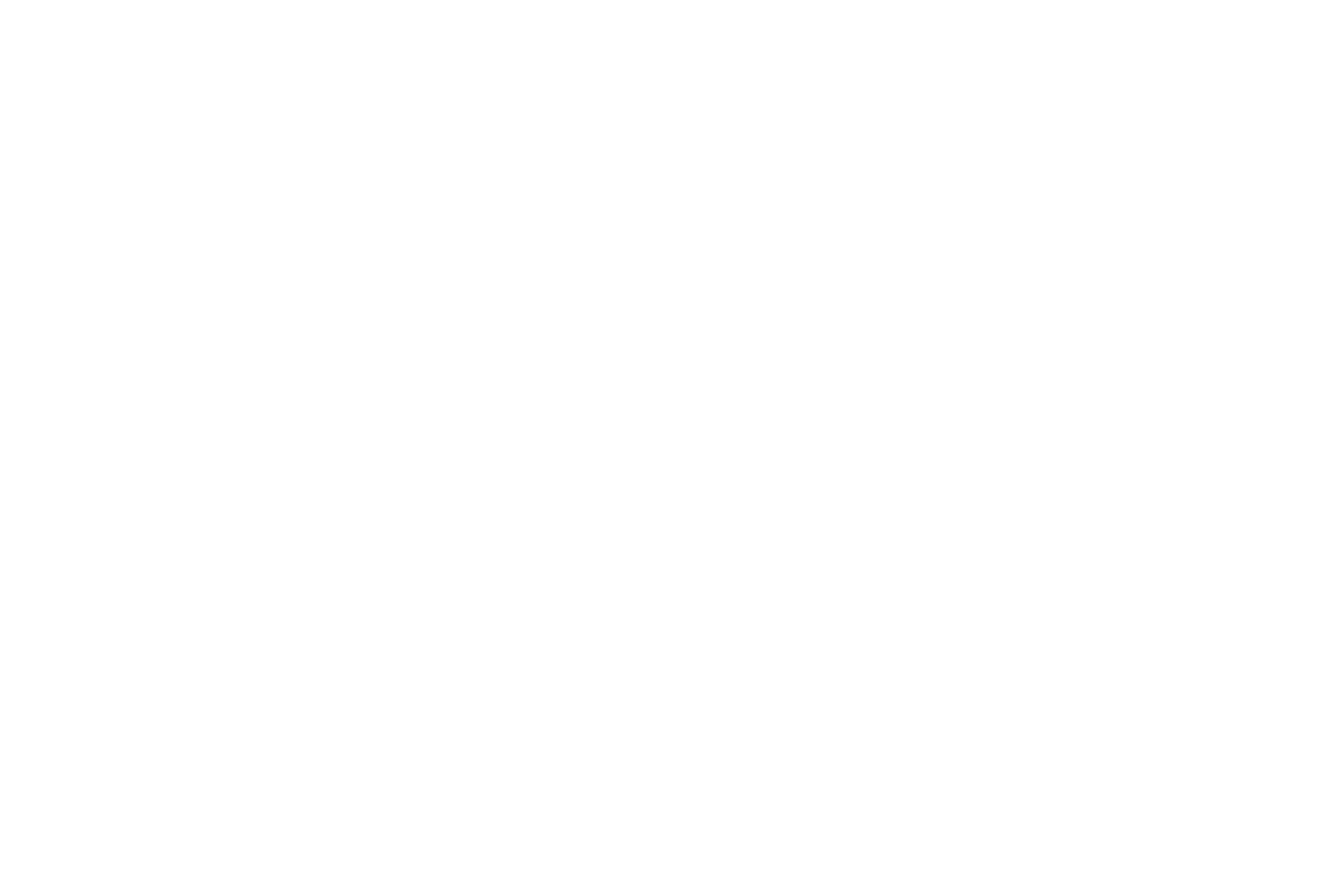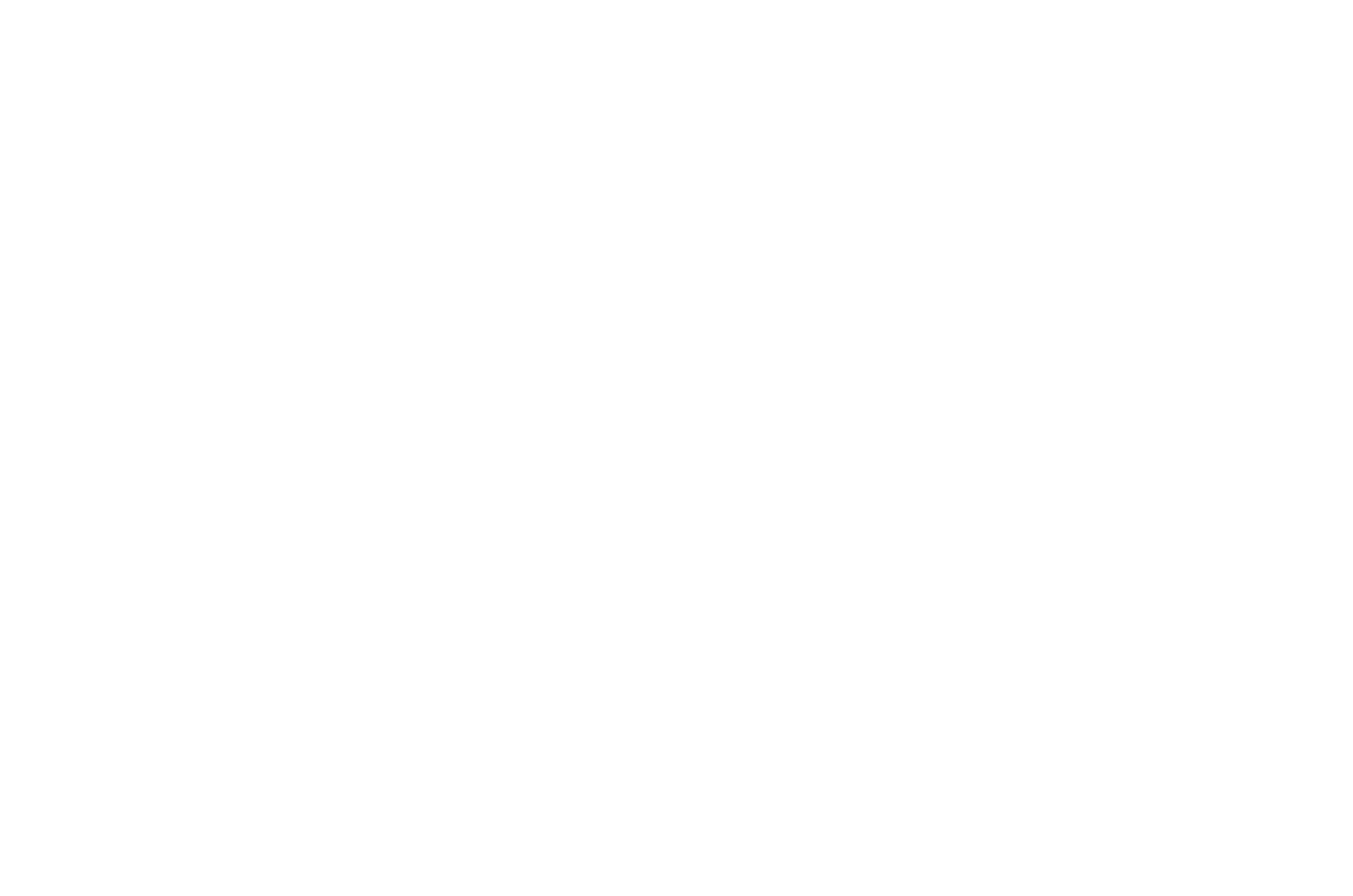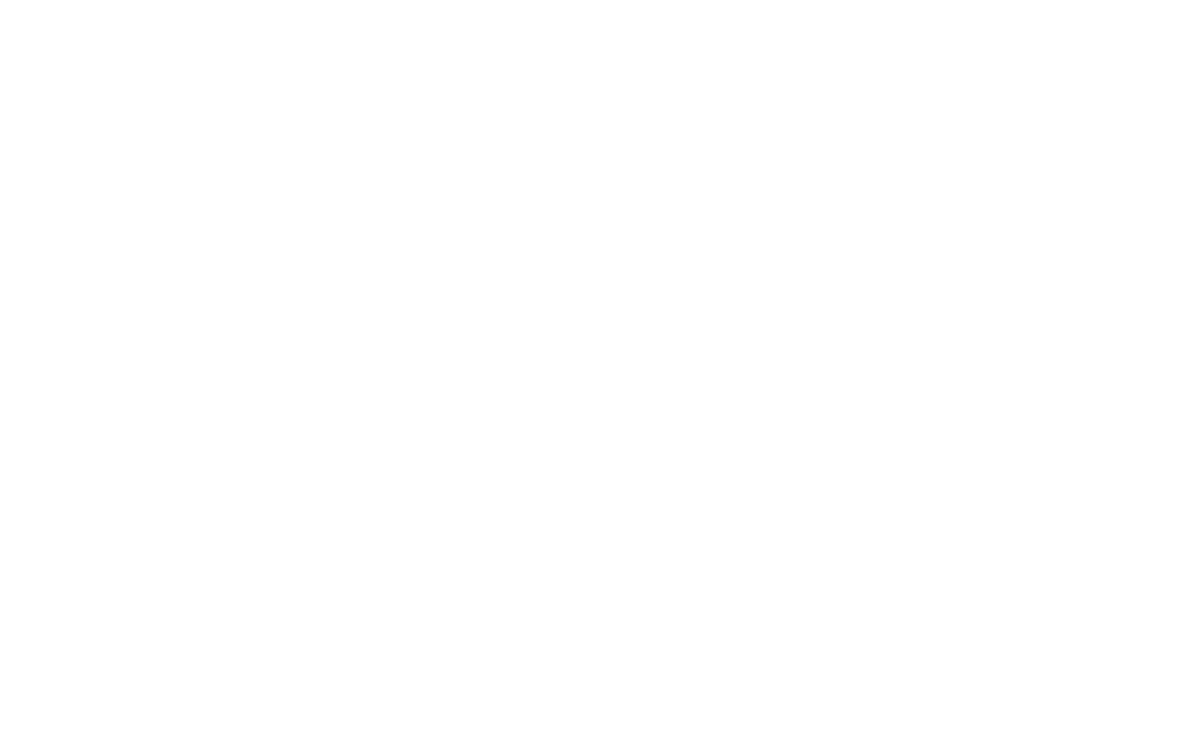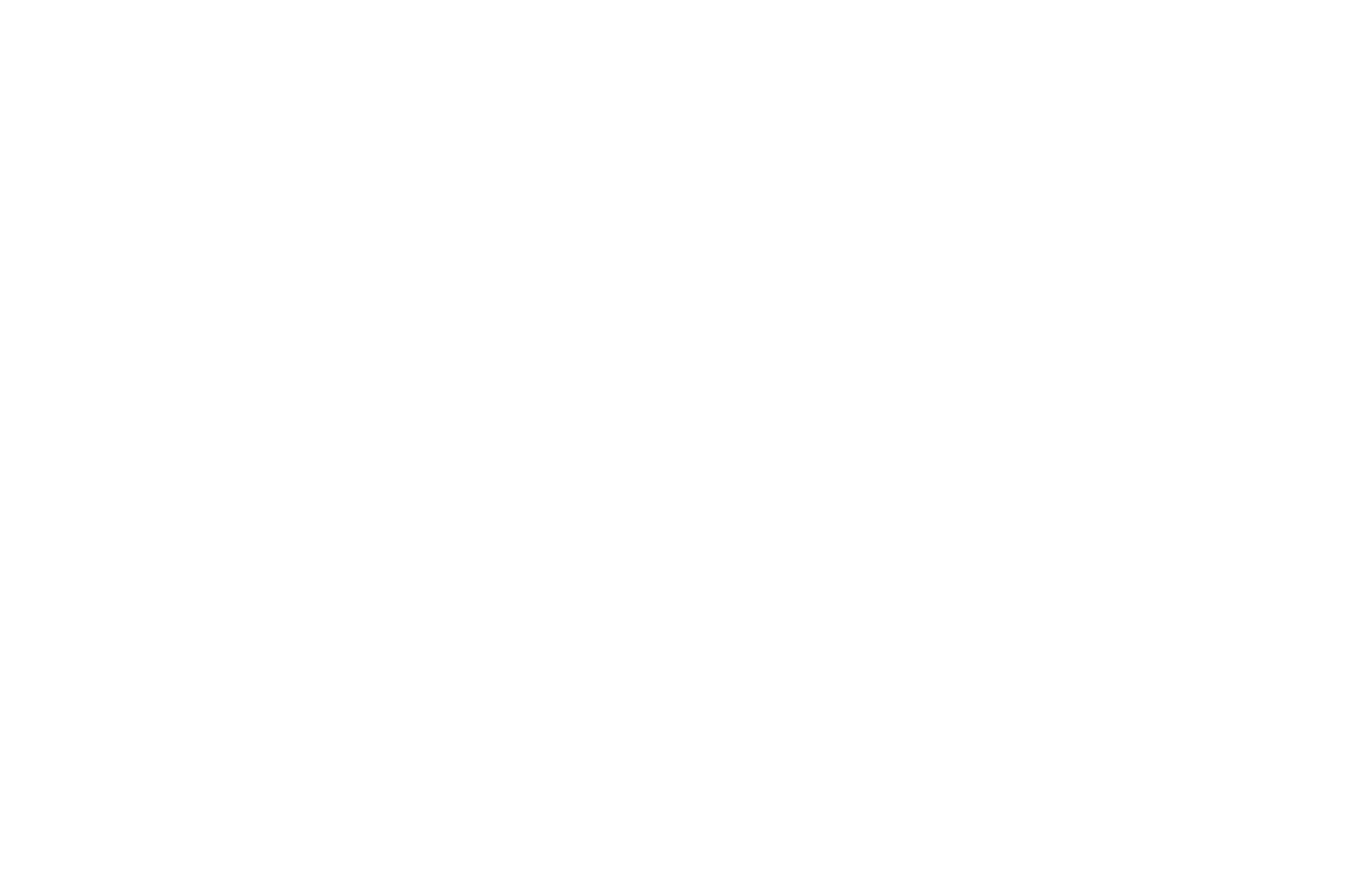Далекий архипелаг,
съемки на севере
и пленочная кинокамера
«Конвас-автомат» под рукой. Как снимаются фильмы
среди ледников
Говорим с режиссером Станиславом Шубертом о личном опыте съемок и путешествий, вдохновляя других творцов.
Станислав Шуберт называет себя «киногубителем, кинолюбителем, кинофриком», фанатом кино и аналоговой фотографии.
А общеизвестно он — режиссер и оператор документального кино, преемник традиций Сибирской киностудии, преподаватель и вдохновитель.
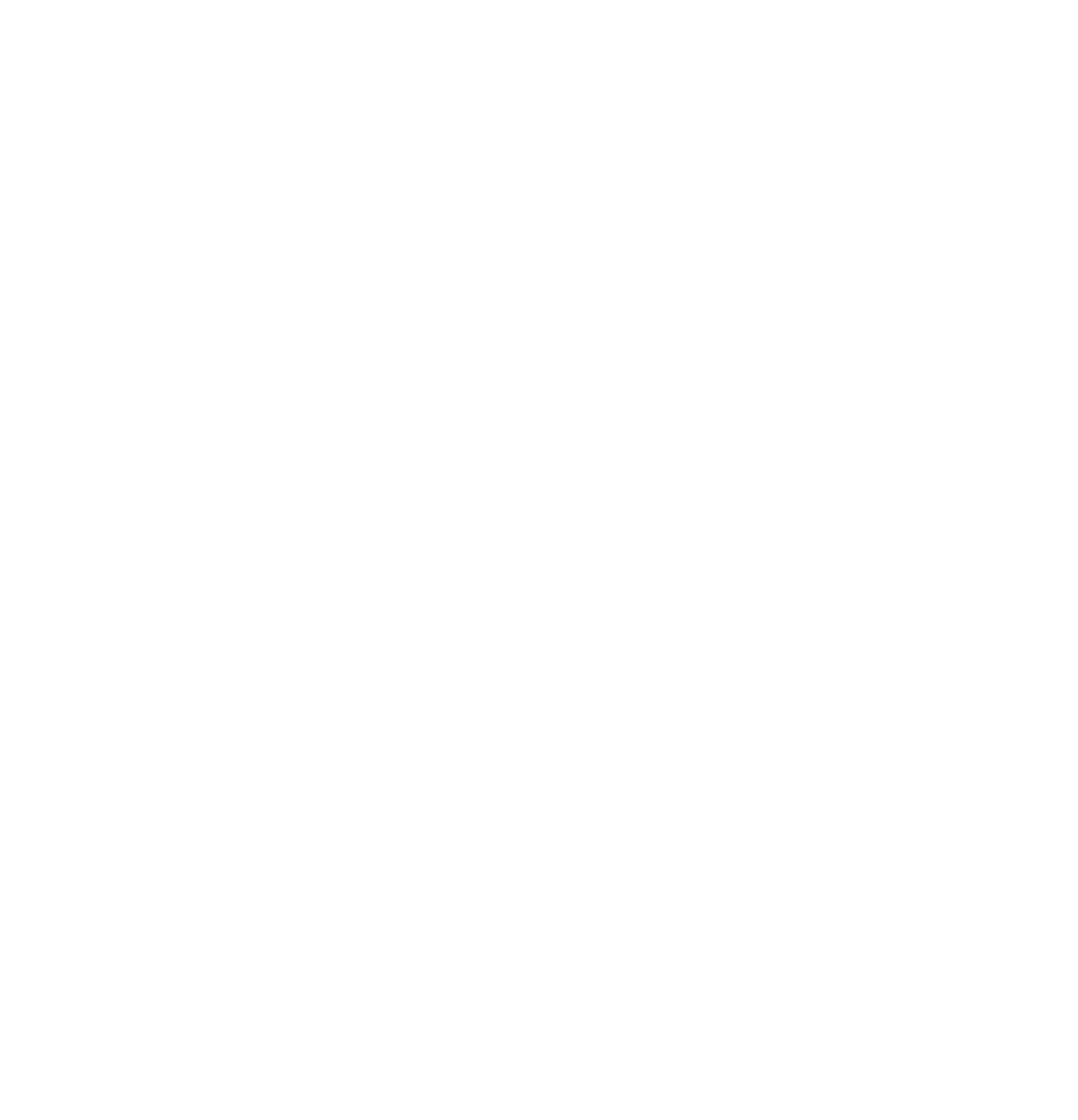
Мне всегда хотелось взять интервью у Станислава. Именно он вдохновил множество молодых людей начать заниматься творчеством, фотографией, работать с пленкой. Вокруг него уже образовалось сообщество, где все друг друга знают и совместно посещают киномероприятия.
Это режиссер в вечном путешествии, вдохновляющий на необычные высоты. Как странник, Станислав вечно в разъездах, в новых городах и странах, где нет будней и выходных, а есть лишь чистое искусство. Давайте послушаем, как он преодолевает трудности на пути к съемке кино и творит, несмотря ни на что.
Это режиссер в вечном путешествии, вдохновляющий на необычные высоты. Как странник, Станислав вечно в разъездах, в новых городах и странах, где нет будней и выходных, а есть лишь чистое искусство. Давайте послушаем, как он преодолевает трудности на пути к съемке кино и творит, несмотря ни на что.
Станислав Шуберт: «Шубертино Лоретти» — меня еще называют так, можем записать.
Софья Пикулина: Шубертино Лоретти, хорошо. Вы говорили, что недавно снова были в большом съемочном путешествии, посещали Баренцбург. Расскажите, как это было?
С.Ш.: В путешествиях я бываю постоянно, а вот в настоящем морском плавании никогда не был. Точнее, правильно говорить, «мы с моряками ходили». Это было судно, а не корабль, называлось оно «Агатту». Я не знал, что судно становится кораблем, когда у него установлено хотя бы одно артиллерийское орудие. А у нас был обычный сухогруз, который перевозил уголь из Мурманска до Баренцбурга, поселка на архипелаге Шпицберген. Эти острова принадлежат Норвегии, но Россия по старому договору может вести в некоторых поселках добычу ископаемых.
Наше судно было под африканским флагом Гамбии. Как я понял, это сделано для того, чтобы не платить налогов в портах. Оказывается, под флагами беднейших стран мира ходит огромный флот. По специальным трекерам это все можно отслеживать в свободном доступе.
Софья Пикулина: Шубертино Лоретти, хорошо. Вы говорили, что недавно снова были в большом съемочном путешествии, посещали Баренцбург. Расскажите, как это было?
С.Ш.: В путешествиях я бываю постоянно, а вот в настоящем морском плавании никогда не был. Точнее, правильно говорить, «мы с моряками ходили». Это было судно, а не корабль, называлось оно «Агатту». Я не знал, что судно становится кораблем, когда у него установлено хотя бы одно артиллерийское орудие. А у нас был обычный сухогруз, который перевозил уголь из Мурманска до Баренцбурга, поселка на архипелаге Шпицберген. Эти острова принадлежат Норвегии, но Россия по старому договору может вести в некоторых поселках добычу ископаемых.
Наше судно было под африканским флагом Гамбии. Как я понял, это сделано для того, чтобы не платить налогов в портах. Оказывается, под флагами беднейших стран мира ходит огромный флот. По специальным трекерам это все можно отслеживать в свободном доступе.
С.П.: Как проходил ваш путь? Что увидели нового, что испытали?
С.Ш.: Поход на судах очень долгий. Во-первых, это скорость около 20 км/ч. Вы идете очень медленно, прямо, без остановок. Во-вторых, он еще долго стоит на пути в порт: нужно встать на якорную стоянку, потом на рейд зайти, потом ждать, собственно, входа в порт, потом проверка на таможне, пограничники, уже выход из порта. И все стоят в очереди, там целая вереница кораблей, даже атомные ледоколы есть, подводные лодки атомные, авианосцы, все это стоит в строю, и нужно ждать проход. Очень интересно было рассматривать огромные ледоколы – «Арктика», «Ямал», которые шли дальше по Северному морскому пути.
На второй день мы были в открытом море: ничего не было видно, кроме воды, пропала мобильная связь. Вышли вдоль Норвегии, прошли Скандинавский полуостров, обошли Кольский полуостров, полуостров Рыбачий, где «растаял в далеком тумане Рыбачий, родимая наша земля. Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет! Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход».
Я понял эти строки, понял, почему «скалистые горы», что за туман, почему остров именно «растаял». Это все про эти места. Далее уже мы подошли к Норвегии, и там появилась норвежская связь «теленор». Они очень хорошо оборудовали связью все побережье. Передал свои фотографии в русское географическое общество.
Так мы обошли Скандинавский полуостров, и потом целый день уже шли дальше в открытое море. Совсем ничего не было видно, никакой земли, только чёрные беломордые дельфины нам встречались, которые шли рядом с судном. Винт бьет мелкую рыбу, оглушает, а дельфины ловят ее на ходу и едят.
С.П.: Никогда бы не подумала.
С.Ш.: Да, а еще суровые моряки рассказывали, что, бывало, сами дельфины очень много бьются об винты, и за один поход их восемь штук погибает. В этот раз никто не попался. Наоборот, дельфины нас сопровождали и даже выпрыгивали из воды, представляешь, в полете. Беломордые дельфины, северные, черные сами, с белыми мордами. И стали появляться косатки на горизонте, целые стаи. Удалось даже на пару слайдов поймать их вдалеке.
А потом уже не видели ничего, был сплошной туман. Когда он рассеялся, мы поняли, что попали в зону полярного дня. Это когда солнце светит постоянно, не переставая, на протяжении многих дней. И чем дальше мы шли к Шпицбергену, тем светлее становилось. Наконец, мы прибыли, нас встретил лоцман, проводил по фарватеру, чтобы завести в порт. Мы снова долго ждали, и в итоге высадились в самой гавани Баренцбурга.
С.Ш.: Поход на судах очень долгий. Во-первых, это скорость около 20 км/ч. Вы идете очень медленно, прямо, без остановок. Во-вторых, он еще долго стоит на пути в порт: нужно встать на якорную стоянку, потом на рейд зайти, потом ждать, собственно, входа в порт, потом проверка на таможне, пограничники, уже выход из порта. И все стоят в очереди, там целая вереница кораблей, даже атомные ледоколы есть, подводные лодки атомные, авианосцы, все это стоит в строю, и нужно ждать проход. Очень интересно было рассматривать огромные ледоколы – «Арктика», «Ямал», которые шли дальше по Северному морскому пути.
На второй день мы были в открытом море: ничего не было видно, кроме воды, пропала мобильная связь. Вышли вдоль Норвегии, прошли Скандинавский полуостров, обошли Кольский полуостров, полуостров Рыбачий, где «растаял в далеком тумане Рыбачий, родимая наша земля. Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет! Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход».
Я понял эти строки, понял, почему «скалистые горы», что за туман, почему остров именно «растаял». Это все про эти места. Далее уже мы подошли к Норвегии, и там появилась норвежская связь «теленор». Они очень хорошо оборудовали связью все побережье. Передал свои фотографии в русское географическое общество.
Так мы обошли Скандинавский полуостров, и потом целый день уже шли дальше в открытое море. Совсем ничего не было видно, никакой земли, только чёрные беломордые дельфины нам встречались, которые шли рядом с судном. Винт бьет мелкую рыбу, оглушает, а дельфины ловят ее на ходу и едят.
С.П.: Никогда бы не подумала.
С.Ш.: Да, а еще суровые моряки рассказывали, что, бывало, сами дельфины очень много бьются об винты, и за один поход их восемь штук погибает. В этот раз никто не попался. Наоборот, дельфины нас сопровождали и даже выпрыгивали из воды, представляешь, в полете. Беломордые дельфины, северные, черные сами, с белыми мордами. И стали появляться косатки на горизонте, целые стаи. Удалось даже на пару слайдов поймать их вдалеке.
А потом уже не видели ничего, был сплошной туман. Когда он рассеялся, мы поняли, что попали в зону полярного дня. Это когда солнце светит постоянно, не переставая, на протяжении многих дней. И чем дальше мы шли к Шпицбергену, тем светлее становилось. Наконец, мы прибыли, нас встретил лоцман, проводил по фарватеру, чтобы завести в порт. Мы снова долго ждали, и в итоге высадились в самой гавани Баренцбурга.
С.П.: Как из книг Жюль Верна. Опасности, красота и приключения. Где вы потом жили?
С.Ш.: В хостеле, дали комнатку. Все меня там узнали: «О, ничего себе, приехал», сказали мне. Лица все знакомые. Это понятно, я был там в 2019-м году, занимался восстановлением архивов кинотеатра «Пирамида» и снимал пленочные кадры, помнишь, я еще устраивал специальные фотовечера. В 2023-м году тоже был, снимал первую часть фильма о Баренцбурге и два раза в 2024-м году был, снимал вторую часть. Потом буду все объединять. Четыре раза был, получается.
С.П.: Как это все получилось организовать? Как спонсировалось?
С.Ш.: Трест «Арктикуголь» сам написал мне, что хочет посотрудничать перед столетием Баренцбурга, снять кино. Я написал заявку, получил грант, связался
еще раз с трестом. Там у них шахты, и плюсом они ведут туристическую деятельность, приглашают людей посетить архипелаг. Им интересно, чтобы место было живое, чтобы все взбодрилось. А кино в этом очень помогает. Можно показать всему миру, и каждый узнает о Баренцбурге и людях, живущих там. Как иначе. Но, конечно, все получилось не без сложностей.
С.П.: Что произошло?
С.Ш.: В хостеле, дали комнатку. Все меня там узнали: «О, ничего себе, приехал», сказали мне. Лица все знакомые. Это понятно, я был там в 2019-м году, занимался восстановлением архивов кинотеатра «Пирамида» и снимал пленочные кадры, помнишь, я еще устраивал специальные фотовечера. В 2023-м году тоже был, снимал первую часть фильма о Баренцбурге и два раза в 2024-м году был, снимал вторую часть. Потом буду все объединять. Четыре раза был, получается.
С.П.: Как это все получилось организовать? Как спонсировалось?
С.Ш.: Трест «Арктикуголь» сам написал мне, что хочет посотрудничать перед столетием Баренцбурга, снять кино. Я написал заявку, получил грант, связался
еще раз с трестом. Там у них шахты, и плюсом они ведут туристическую деятельность, приглашают людей посетить архипелаг. Им интересно, чтобы место было живое, чтобы все взбодрилось. А кино в этом очень помогает. Можно показать всему миру, и каждый узнает о Баренцбурге и людях, живущих там. Как иначе. Но, конечно, все получилось не без сложностей.
С.П.: Что произошло?
Почти сразу же после моего вопроса Станиславу написал консул. Режиссер печатает ему сообщение: «Моя пленка — Kodak Vision3». Указывает способ проявки. Кратко говорит о том, что случилось.
С.П.: Расскажите и для наших читателей тоже.
С.Ш.: Да, я спокойно снимал в Баренцбурге, проработал месяц примерно, снимал в шахте, снимал материал в поселке. И потом было торжественное мероприятие, открытие бассейна. Все полярники очень долго ждали его. После реконструкции бассейн не работал 6 лет. А тут, к столетию поселка, его открыли. Приехали официальные лица, в том числе руководство треста «Арктикуголь». Потом они все улетали в Москву, и я предложил им взять пленку и сразу там же отправить на проявку. Они, конечно, согласились. Взяли пленку, полетели через границу Норвегии. А на границе пленку изъяли. Не понимаем, как так получилось, но пограничники отнеслись к материалу предвзято. Со мной такого никогда не случалось.
Пленка в итоге сейчас в Осло. Наш российский консул пытается связаться, чтобы выяснить, в чем дело.
С.Ш.: Да, я спокойно снимал в Баренцбурге, проработал месяц примерно, снимал в шахте, снимал материал в поселке. И потом было торжественное мероприятие, открытие бассейна. Все полярники очень долго ждали его. После реконструкции бассейн не работал 6 лет. А тут, к столетию поселка, его открыли. Приехали официальные лица, в том числе руководство треста «Арктикуголь». Потом они все улетали в Москву, и я предложил им взять пленку и сразу там же отправить на проявку. Они, конечно, согласились. Взяли пленку, полетели через границу Норвегии. А на границе пленку изъяли. Не понимаем, как так получилось, но пограничники отнеслись к материалу предвзято. Со мной такого никогда не случалось.
Пленка в итоге сейчас в Осло. Наш российский консул пытается связаться, чтобы выяснить, в чем дело.
Приходим к тому, что есть два варианта. Первый: пограничники не знают, что делать с пленкой, потому что в Норвегии такую проявить не могут. И тогда вся надежда на то, что они доставят пленку в Швецию и проявят там либо на средства треста, либо на средства Станислава.
И второй вариант: они уже ее вскрыли, чтобы посмотреть, что внутри. И безвозвратно засветили.
Консул прямо во время нашего разговора попытается договориться с правительством Норвегии, чтобы решить проблему и вернуть пленку.
И второй вариант: они уже ее вскрыли, чтобы посмотреть, что внутри. И безвозвратно засветили.
Консул прямо во время нашего разговора попытается договориться с правительством Норвегии, чтобы решить проблему и вернуть пленку.
С.Ш.: Все это затянулось, конечно, поэтому не так давно я снова поехал в Баренцбург и переснял то, что было утеряно. Получилось вполне романтическое путешествие. Оплатил трест, да. Снова ехали на сухогрузе, перевозящем уголь.
Но все я не мог переснять, разумеется, потому что в документальном кино нельзя «переснять». Жизнь всегда будет меняться. В игровом кино — режиссер — это бог, а в документальном — бог — это режиссер.
Получается, что съемки с 2023-го года должны быть дополнены 2024-м годом. Все это будет объединено в один большой фильм. Есть уже тизер, можно смотреть. Сканировали с 4К пленки, а единственные цифровые кадры с Blackmagic в шахте. Все остальное — пленка.
Но все я не мог переснять, разумеется, потому что в документальном кино нельзя «переснять». Жизнь всегда будет меняться. В игровом кино — режиссер — это бог, а в документальном — бог — это режиссер.
Получается, что съемки с 2023-го года должны быть дополнены 2024-м годом. Все это будет объединено в один большой фильм. Есть уже тизер, можно смотреть. Сканировали с 4К пленки, а единственные цифровые кадры с Blackmagic в шахте. Все остальное — пленка.
С.П.: Видно, что условия жизни очень тяжелые, хотя в этом есть своя романтика.
С.Ш.: Да, очень мало кто выдерживает там жить, многие приезжают и уезжают. Еще северная ночь, когда полгода солнца вообще не видишь, круглые дни под лампой сидишь. Многие занимаются творчеством, фотографией, музыкой, чтобы помочь себе. Творчество спасает. Но есть и те, кто намеренно не хочет уезжать, полюбили северное сияние, природу… «Арктикуголь» молодцы — продвигают Баренцбург, хранят историю, зовут тюда туристов. Мало кто в России знает, что это место существует вообще. Да и мне очень интересно было снимать — это уникальный сейчас в России фильм, снятый на пленку. Она же под санкциями сейчас, ничего не возится, а у нас весь фильм пленочный. Мы, несмотря на эти проблемы, пытаемся преодолевать трудности. В одно время со мной приезжали в Баренцбург итальянские студенты из киношколы имени Висконти, тоже снимали фильм. Говорят, вы, русские, такие богатые, мы думали, только в Голливуде снимают на пленку. Кристофер Нолан там, а еще вы, оказывается…
С.П.: И пленка — очень чувствительный материал, а у вас условия съемок были очень тяжелыми. Пурга, метель, ветер до 30 метров в секунду, перепады сухости и влажности, мороз. Но самое интересное, как вы снимали в шахте?
С.Ш.: Да, это особая история. В шахте вообще снимать нельзя, потому что там газ, метан, который может от любой искры взорваться. Мо оборудование газоанализатором проверяли. Это раз. Второе, со мной отправляли главного инженера и его заместителя, которые ходили рядом и за всем следили. И, конечно же, провели инструктаж по технике безопасности, выдали самоспасатель. Глубина шахты была более 600 метров.
Кадр мы освещали светодиодным светом, инженеры помогали мне держать. Двух светодиодов хватило. Шахтеры вообще — те же космонавты, только подземные. Угольная пыль повсюду, через некоторое время ее частички застревают в коже и уже ничем не вымываются. Из камер мы тоже пылесосом выдували эту пыль. И ходили на полусогнутых ногах, представляешь, какой вес с пленочной камерой «Конвас-автомат» и с этими штативами.
С.Ш.: Да, очень мало кто выдерживает там жить, многие приезжают и уезжают. Еще северная ночь, когда полгода солнца вообще не видишь, круглые дни под лампой сидишь. Многие занимаются творчеством, фотографией, музыкой, чтобы помочь себе. Творчество спасает. Но есть и те, кто намеренно не хочет уезжать, полюбили северное сияние, природу… «Арктикуголь» молодцы — продвигают Баренцбург, хранят историю, зовут тюда туристов. Мало кто в России знает, что это место существует вообще. Да и мне очень интересно было снимать — это уникальный сейчас в России фильм, снятый на пленку. Она же под санкциями сейчас, ничего не возится, а у нас весь фильм пленочный. Мы, несмотря на эти проблемы, пытаемся преодолевать трудности. В одно время со мной приезжали в Баренцбург итальянские студенты из киношколы имени Висконти, тоже снимали фильм. Говорят, вы, русские, такие богатые, мы думали, только в Голливуде снимают на пленку. Кристофер Нолан там, а еще вы, оказывается…
С.П.: И пленка — очень чувствительный материал, а у вас условия съемок были очень тяжелыми. Пурга, метель, ветер до 30 метров в секунду, перепады сухости и влажности, мороз. Но самое интересное, как вы снимали в шахте?
С.Ш.: Да, это особая история. В шахте вообще снимать нельзя, потому что там газ, метан, который может от любой искры взорваться. Мо оборудование газоанализатором проверяли. Это раз. Второе, со мной отправляли главного инженера и его заместителя, которые ходили рядом и за всем следили. И, конечно же, провели инструктаж по технике безопасности, выдали самоспасатель. Глубина шахты была более 600 метров.
Кадр мы освещали светодиодным светом, инженеры помогали мне держать. Двух светодиодов хватило. Шахтеры вообще — те же космонавты, только подземные. Угольная пыль повсюду, через некоторое время ее частички застревают в коже и уже ничем не вымываются. Из камер мы тоже пылесосом выдували эту пыль. И ходили на полусогнутых ногах, представляешь, какой вес с пленочной камерой «Конвас-автомат» и с этими штативами.
С.П.: Там в шахте все работают, в основном?
С.Ш.: Не только, там есть еще и научные центры. Метеорологи, есть даже гляциологи, изучают ледники, вопросы потепления. Археологи изучают наследие поморов.
В съемках я весь поселок охватил, и школу, и даже бассейн. Практически каждый день выходил, экспериментировал, где-то игрался с двойной экспозицией. Смог заснять репетиционную точку, где местные музыканты играют. А в самом фильме звучит атмосферная музыка «Лихолесья», это наша новосибирская группа.
С.Ш.: Не только, там есть еще и научные центры. Метеорологи, есть даже гляциологи, изучают ледники, вопросы потепления. Археологи изучают наследие поморов.
В съемках я весь поселок охватил, и школу, и даже бассейн. Практически каждый день выходил, экспериментировал, где-то игрался с двойной экспозицией. Смог заснять репетиционную точку, где местные музыканты играют. А в самом фильме звучит атмосферная музыка «Лихолесья», это наша новосибирская группа.
С.П.: Баренцбург — это для вас уже как место силы. Планируете туда приехать снова?
С.Ш.: Место силы, да… Одно место силы у меня — река Иня, второе — поселок Баренцбург и рядом с ним поселок Пирамида, где я восстанавливал пленочную кинохронику в самом северном кинотеатре России.
Вернуться планирую туда к октябрю, как домонтирую фильм. Там будет день треста «Арктикуголь», хочу поехать, презентовать кино, провести мероприятие, отпраздновать.
С.Ш.: Место силы, да… Одно место силы у меня — река Иня, второе — поселок Баренцбург и рядом с ним поселок Пирамида, где я восстанавливал пленочную кинохронику в самом северном кинотеатре России.
Вернуться планирую туда к октябрю, как домонтирую фильм. Там будет день треста «Арктикуголь», хочу поехать, презентовать кино, провести мероприятие, отпраздновать.
С.П.: Сейчас, зная весь свой опыт и все, что вы пережили, какой посыл несет для вас кино? Может, для вас это как способ изменить мир или его познать?
С.Ш.: Кино я решил заниматься еще в детстве. Посмотрел фильм «Человек с бульвара Капуцинов» и думал, что это спасет мир, как-то поможет.
Но по миру я не могу сказать, однако, меня оно спасло точно. Не знаю даже, чем бы я еще занимался. Кино позволяет мне все невзгоды выдержать, пережить, все это пройти вместе с жизнью народа. Надеюсь, и другим это помогает. Хроника — это отражение реальности, оно дает что-то осознать и поменять в себе.
Кино — это очень важное дело. И особенно кино на пленке. Только так особенно передается дух, фактура, тонкие среды: воздух, огонь, вода. Плавное движение, как будто даже стереоскопический эффект, объемность. На «цифру» тяжело такое сделать, она плоско и мертво привязывает задний и передний план. И, конечно же, химические процессы, итоговый цвет на пленке. «Цифре» тяжело к такому приблизиться.
Мечтал снять кино про Янку Дягилеву именно на пленку, кстати. Но на это нужны большие средства. Их получили в столице, но сняли в итоге где-то под Питером, потому что им тяжело ехать в Сибирь. Получилось очень отдаленно от реальной жизни.
С.Ш.: Кино я решил заниматься еще в детстве. Посмотрел фильм «Человек с бульвара Капуцинов» и думал, что это спасет мир, как-то поможет.
Но по миру я не могу сказать, однако, меня оно спасло точно. Не знаю даже, чем бы я еще занимался. Кино позволяет мне все невзгоды выдержать, пережить, все это пройти вместе с жизнью народа. Надеюсь, и другим это помогает. Хроника — это отражение реальности, оно дает что-то осознать и поменять в себе.
Кино — это очень важное дело. И особенно кино на пленке. Только так особенно передается дух, фактура, тонкие среды: воздух, огонь, вода. Плавное движение, как будто даже стереоскопический эффект, объемность. На «цифру» тяжело такое сделать, она плоско и мертво привязывает задний и передний план. И, конечно же, химические процессы, итоговый цвет на пленке. «Цифре» тяжело к такому приблизиться.
Мечтал снять кино про Янку Дягилеву именно на пленку, кстати. Но на это нужны большие средства. Их получили в столице, но сняли в итоге где-то под Питером, потому что им тяжело ехать в Сибирь. Получилось очень отдаленно от реальной жизни.
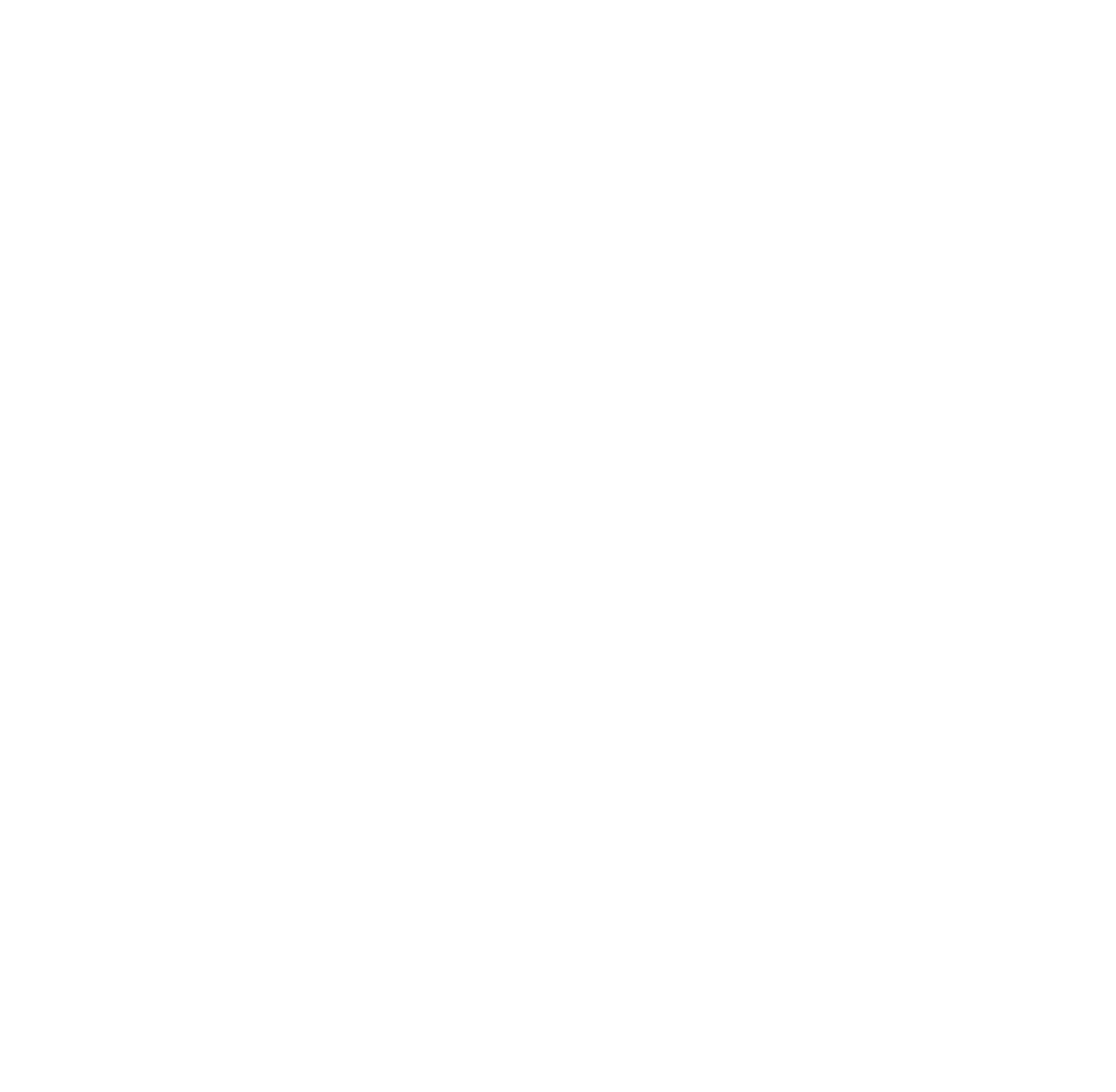
С.П.: Куда думаете дальше держать свой путь?
С.Ш.: Пока что это направление на север, восток. Долгое время эти территории были «заброшенные», а сейчас пытаются все развивать, оживлять.
Еще хотелось бы попасть на новые фестивали. Мой прошлый фильм о парусном спорте, который я снимал на Байкале, уже отобрали на три международных зарубежных фестиваля: в Словении, в Сербии и в Италии. Вот в Милан я как раз хотел попасть на сам фестиваль, устроить себе романтическое путешествие. Пробиваться вообще на такие конкурсные отборы очень тяжело, но возможно. Вот, например, фильм нашего Владимира Эйснера недавно победил на кинофестивале в США, несмотря на сложную сейчас политическую ситуацию. Все равно связи остаются между творческими людьми, все хотят общаться, смотреть, что в России происходит. Помните, я говорил про итальянцев, студентов из киношколы. Мы отлично с ними подружились, они даже помогли сделать к моему фильму итальянские субтитры, отправить заявку в Италию на тот самый фестиваль. Им было так интересно слушать про пленочное кино, мы даже вместе смотрели фильм «Восемь с половиной» Федерико Феллини и «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти. Они обалдели, просто говоря, что такие фильмы хранятся на кинопленке у нас на Севере.
С.П.: Вы относите себя к группе сибирских режиссеров? Это же целое устоявшееся сообщество. По Юрию Шиллеру я даже писала диплом.
С.Ш.: Конечно, сибирская документалистика и вообще сибирская школа документального кино — это настоящее сообщество. Юрий Шиллер у нас был, да, Владимир Эйснер и сейчас его сын, Валерий Соломин и его сын, целые поколения. Кто-то же должен это продолжать, вот, я стараюсь. Конечно, время уже другое. К сожалению, молодежь стремится в большие города, там деньги есть. Но в Сибири очень богатый материал. Только нужны гранты, чтобы его снять. Моя профессия — «джентльмен удачи».
С.Ш.: Пока что это направление на север, восток. Долгое время эти территории были «заброшенные», а сейчас пытаются все развивать, оживлять.
Еще хотелось бы попасть на новые фестивали. Мой прошлый фильм о парусном спорте, который я снимал на Байкале, уже отобрали на три международных зарубежных фестиваля: в Словении, в Сербии и в Италии. Вот в Милан я как раз хотел попасть на сам фестиваль, устроить себе романтическое путешествие. Пробиваться вообще на такие конкурсные отборы очень тяжело, но возможно. Вот, например, фильм нашего Владимира Эйснера недавно победил на кинофестивале в США, несмотря на сложную сейчас политическую ситуацию. Все равно связи остаются между творческими людьми, все хотят общаться, смотреть, что в России происходит. Помните, я говорил про итальянцев, студентов из киношколы. Мы отлично с ними подружились, они даже помогли сделать к моему фильму итальянские субтитры, отправить заявку в Италию на тот самый фестиваль. Им было так интересно слушать про пленочное кино, мы даже вместе смотрели фильм «Восемь с половиной» Федерико Феллини и «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти. Они обалдели, просто говоря, что такие фильмы хранятся на кинопленке у нас на Севере.
С.П.: Вы относите себя к группе сибирских режиссеров? Это же целое устоявшееся сообщество. По Юрию Шиллеру я даже писала диплом.
С.Ш.: Конечно, сибирская документалистика и вообще сибирская школа документального кино — это настоящее сообщество. Юрий Шиллер у нас был, да, Владимир Эйснер и сейчас его сын, Валерий Соломин и его сын, целые поколения. Кто-то же должен это продолжать, вот, я стараюсь. Конечно, время уже другое. К сожалению, молодежь стремится в большие города, там деньги есть. Но в Сибири очень богатый материал. Только нужны гранты, чтобы его снять. Моя профессия — «джентльмен удачи».
С.П.: Вот бы и дальше продолжать ветку сибирской школы кино. Снимать про весь мир, но с сибирским духом. И обучать молодых.
С.Ш.: Одно время я преподавал в «Старой мельнице», мои ученики и сейчас остались в кино, снимают небольшие проекты, начинают свой путь. А недавно меня звали преподавать в НГТУ на операторский факультет, но я отказался. Пока нет времени погружаться, нельзя же набегами, это большая ответственность. Либо я снимаю кино и все время в разъездах, либо я преподаю основательно для студентов, веду полный курс. Но в будущем, думаю, обязательно буду передавать молодым методы сибирской школы документального кино.
С.П.: Как красиво! Сибирские корни, и вы, как дерево. Процветаете до самых высот на весь мир.
С.Ш.: Да, вот так. И не сдаемся, будем продолжать свое дело дальше, несмотря ни на что. Верны идее.
С.Ш.: Одно время я преподавал в «Старой мельнице», мои ученики и сейчас остались в кино, снимают небольшие проекты, начинают свой путь. А недавно меня звали преподавать в НГТУ на операторский факультет, но я отказался. Пока нет времени погружаться, нельзя же набегами, это большая ответственность. Либо я снимаю кино и все время в разъездах, либо я преподаю основательно для студентов, веду полный курс. Но в будущем, думаю, обязательно буду передавать молодым методы сибирской школы документального кино.
С.П.: Как красиво! Сибирские корни, и вы, как дерево. Процветаете до самых высот на весь мир.
С.Ш.: Да, вот так. И не сдаемся, будем продолжать свое дело дальше, несмотря ни на что. Верны идее.
- Софья ПикулинаАвторИсследователь, путешественник,
писатель, основатель «Обилия»